Усмешка Герберштейна, или Сколько лет Смайлику?
BY |
UA |
RU |
EN
DOI:
ВведениеВ 2022 году во всем мире отметили сорокалетие текстовых смайликов или, говоря по-научному, эмотиконов. Два оригинальных шедевра: составленные из знаков препинания улыбающееся :-) и хмурое :-( лица — были предложены Скоттом Фалманом из университета Карнеги-Меллона в сообщении, размещенном им на электронной доске объявлений кафедры Computer Science 19 сентября 1982 года.1 Поднявшаяся вслед за тем волна вторичных изобретений в какой-то момент вызвала к жизни безносые версии :) и :(, которые остались анонимными. Эти две последние в наши дни стали едва ли не более популярными, поскольку позволяют экономить чернила и время, а также потому, что они с меньшей вероятностью перехватываются редакторскими приложениями, которые преобразуют их затем в затейливые, но куда менее выразительные графические эмодзи. По крайней мере, так говорит нам история. |
1 См. https://www.cs.cmu.edu/~sef/sefSmiley.htm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сегодня смайлики используются повсеместно, сигнализируя о присутствии риторической фигуры или скрытого, часто иронического значения, а также предупреждая читателя, чтобы тот не воспринимал текст буквально. В данной статье представлены свидетельства того, что безносый смайлик :) использовался по назначению гораздо раньше 1982 года. Речь идет не о нескольких годах или десятилетиях, а о нескольких столетиях! Представленные свидетельства относятся к знаменитому латинскому трактату Rerum Moscoviticarum Commentarii, или «Записки о московских делах», написанному Сигизмундом Герберштейном и впервые опубликованному в 1549 году. Устойчивое использование безносого смайлика можно наблюдать в латинской версии трактата, начиная с его второго латинского издания, дополненного и исправленного самим автором и выпущенного в свет в Базеле в 1551 году издательством Иоганна Опоринуса. 2 |
2 Немецкая версия трактата, впервые увидевшая свет в Вене в 1557 году в собственном
значительно отредактированном переводе Герберштейна, избегала использования риторических фигур и, сооветственно, обошлась без смайликов. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В то время как автор настоящей статьи предлагает серьезно отнестись к приоритету Сигизмунда Герберштейна в использовании безносого смайлика :), приоритет Скотта Фалмана в изобретении носатого варианта :-) остается неоспоримым. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигизмунд Герберштейн и его трактатБарон Сигизмунд фон Герберштейн (Siegmund Freiherr von Herberstein, 1486–1566) — австрийский военный и государственный деятель, член Имерского надворного совета Священной Римской империи (лат.: Consilium Aulicum, нем.: Reichshofrat) и имперский дипломат, дважды, в 1517 и 1526 годах, посещавший Москву для переговоров с великим князем Василием III. Родом из герцогства Карниола (часть современной Словении), он был с детства знаком со словенским языком, знание которого очень помогло ему в ходе его дипломатических миссий в Московское государство. Сегодня его главным образом помнят как автора трактата Rerum Moscoviticarum Commentarii, или «Записки о московитских делах», в котором он обобщил знания, полученные в ходе двух своих поездок. С момента первой публикации в 1549 году трактат Герберштейна приобрёл огромную популярность. Уже к началу XVII века увидели свет его многочисленные латинские издания в полном и сокращенном вариантах, несколько изданий по-немецки (как в авторской версии, так и в новых переводах), а также переводы на итальянский, польский и английский языки.3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как с очевидностью вытекает из его латинского названия, трактат Герберштейна имеет своим предметом Московское государство, или Московию. Не стоит отождествлять описаную Герберштейном сущность с исторической Русью или же с политическими образованиями последующих эпох, связанными общим именем Россия.4 С одной стороны, основные земли Древней Руси, достигшей своего расцвета за несколько столетий до возникновения Москвы, лежали вне пределов Московии к западу и юго-западу от нее, входя в состав Великого княжества Литовского. С другой стороны, территории, подвластные великому князю во времена Герберштейна, границы которых едва достигали реки Оки на юге и реки Оби на востоке, были лишь крошечной частью того огромного географического пространства, которое спустя два столетия Российская империя (1721–1917) станет считать своей собственностью. Лишь на северо-западе завоевание и аннексия Новгородской республики в 1471–1478 годах, будучи начальным актом имперской экспансии Московии, принесли ей как власть над частью исторической Руси, так и участок границы, унаследованный впоследствии Российской империей и её преемниками. Тем не менее, Rerum Moscoviticarum Commentarii — это гораздо больше, чем простое историческое свидетельство, запечатленное глазами габсбургского имперского дипломата в фиксированный момент исторического времени. Московское государство начала шестнадцатого века — еще никоим образом не Россия, однако последующие формы российской государственности без сомнения являются продуктом его имперской экспансии и во многом воспроизводят его политические и социальные традиции. Вот уже без малого половину тысячелетия трактат Герберштейна служит уникальным источником понимания как Московии, так и её имперских наследников, сохраняющим своё значение далеко за пределами жизни автора — вплоть до наших дней. В этой статье мы обнаруживаем, что провидческий талант, которым обладал Герберштейн, не был ограничен социально-политическими аспектми будущих государственных образований. Удивительным образом автор трактата предвидел и блестяще использовал по крайней мере одну символическую условность цифровой эпохи, до которой на момент публикации его труда оставалось еще более четырех столетий. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В латинском тексте книги Герберштейна содержится прибизительно 1360 взятых в скобки текстовых фрагментов.5 Из них ровно в двух случаях закрывающей скобке предшествует двоеточие, образуя комбинацию, которая сегодня почти повсеместно известна как безносый смайлик :) со всеми связанными с ним коннотациями. Может возникнуть соблазн списать эти два случая на неустоявшиеся правила пунктуации (двоеточие со скобкой в возможной роли разделителя) или на ошибку наборщика (случайное использование двоеточия вместо пробела). Однако обзор доступных латинских изданий трактата подтверждает, что с момента своего первого появления в печати оба текстовые фрагмента в скобках со смайликом последовательно воспроизводились в разных городах, различными издателями, редакторами и наборщиками. Более того, тщательное семантическое исследование показывает, что оба фрагмента действительно заслуживают улыбки, тогда как в одном из случаев неявные аллюзии и скрытые значения настолько глубоки, что не могут не вызвать восхищения. При этом они, по-видимому, ускользнули от внимания современных переводчиков и комментаторов. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usus enim est interprete locupletissimo :)Первый смайлик встречается в посвящении, которое Сигизмунд Герберштейн адресовал Фердинанду, королю Венгрии и Богемии, эрцгерцогу Австрии и будущему императору Священной Римской империи. Называя своих предшественников, писавших о Московии, Герберштейн хвалит Павла Иовия за изящество слога и высокую достоверность, делая замечание об источнике, имевшемся в распоряжении автора, — usus enim est interprete locupletissimo. Начиная с Базельского издания 1551 года, это замечание появляется в скобках и завершается безносым смайликом :) вместо закрывающей скобки (См. рис.). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Павел Иовий (Paulus Iovius, Paolo Giovio, 1483–1552) — историк и доверенное лицо Папы, который в конце 1525 года опубликовал свою знаменитую книгу Libellus de legatione Basilii magni Principis Moschoviae ad Clementem VII или «Книжицу о посольстве великого князя московского Василия к папе Клименту VII».6 Судя по всему, Герберштейн с большим уважением относился к книге и её автору. Говоря об interprete locupletissimo, или, буквально, очень богатом переводчике, Герберштейн имел в виду дипломатического курьера, отправленного великим князем московским к римскому папе в апреле 1525 года. К концу лета курьер добрался до Рима, а в октябре между ним Павлом Иовием состоялся ряд бесед, в ходе которых московский дипломат предоставил итальянскому историку обширные и ценные сведения о Московском государстве, положенные Иовием в основу его книги. Сегодня как российские, так и западные ученые знают этого дипломата под его осовремененным именем Дмитрий и принимаемым за фамилию прозвищем Герасимов.7 Его поднимают на щит как высокообразованную личность, «человека эпохи Возрождения», который преодолел разрыв между Востоком и Западом, а также был полиглотом, путешественником, исследователем и картографом. Рассмотрение его многочисленных талантов и достижений является предметом отдельного исследования. Здесь же мы кратко коснёмся его биографии в той мере, в какой это важно для понимания замечания Герберштейна. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В наши дни Дмитрий Герасимов звучит как ничем не примечательное сочетание распространенного личного имени и столь же распространенной фамилии, которые могут принадлежать человеку из любой прослойки общества. Однако в архаичной атмосфере Московии XVI века антропонимические конвенции работали иначе. Если имя служило идентификатором, то форма имени являлась непосредственным индикатором социального статуса. Два человека, получившие при крещении имя Димитрий, могли принадлежать к противоположным концам социального спектра: например, с одной стороны, посол и представитель потомственной аристократии Димитрий Даниилович Загряжской (трехчленная именная форма с полным личным именем, грамматически правильным отчеством и топонимическим прилагательным в роли фамилии, обозначающей родовое имение) и, с другой стороны, холоп Митька (одночленная именная форма с уничижительным личным именем). На шкале, заданной этими двумя крайностями, Димитрий Герасимов (двучленная форма с полным личным именем и притяжательным прозвищем) может показаться респектабельным представителем среднего класса. Однако в действительности имя Димитрий Герасимов стало известно широкой публике лишь в начале XIX веке — благодаря российскому императорскому историографу Николаю Карамзину (1766–1826).8 Все же прижизненные первоисточники вплоть до поездки в Рим в 1525 году, и даже предшественник Карамзина Василий Татищев (1686–1750), в отношении этого человека использовли лишь уменьшительную форму его личного имени — Митя. Иногда уменьшительное имя сочеталось с уточняющим прозвищем — Малый или профессией — Толмач. В Московии XVI века такое именование кого-либо могло указывать на человека «без роду и племени», находящегося на низшей ступени социальной коммуникации. Сигизмунд Герберштейн в своей книге, говоря об информаторе Павла Иовия, уважительно назвал его полной формой личного имени: «тот Димитрий, который совсем недавно был послом в Риме у верховного первосвященника».9 В этой статье мы последуем примеру Герберштейна. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История жизни Димитрия может скрывать глубокую драму. Он родился приблизительно в 1460 году, плюс или минус несколько лет, если судить по оценке Павла Иовия, для которого в 1525 году он был — sexagenarius senex, то есть, старец на седьмом десятке.10 Обстоятельства жизни Димитрия указывают на Новгород как на место его рождения и позволяют предположить, что он происходил из состоятельной купеческой семьи, связанной с ганзеатской торговлей. В юности Димитрий посещал некое училище в Ливонии, где освоил латынь и немецкий язык.11 Вероятно, он готовился к карьере в сфере международной коммерции. Аннексия Новгорода Москвой, надо полагать, поставила крест на его карьерных устремлениях, но знание языков помогло ему удержаться на плаву. В конце пятнадцатого века Димитрий оказался в числе интеллектуалов, собравшихся вокруг архиепископа Новгородского Геннадия. Здесь он переводил религиозные и полемические тексты, участвовал в составлении Геннадиевского библейского кодекса.12 На рубеже веков или вскоре после Димитрий перебрался в Москву и стал толмачом на казенной службе. В этой роли он должен был столкнуться с двоякой реальностью. С одной стороны, благодаря своим уникальным языковым навыкам, он без сомнения принадлежал к числу самых образованных людей своего времени. С другой стороны, его скромное происхождение как купеческого сына из недавно завоеванной страны оставляло его без корней и защиты в столице растущей империи и делало его изгоем в консервативной и непотической структуре московского общества. Так, в своей служебной карьере Димитрий, по-видимому, оставался на второстепенной роли толмача, то есть, устного переводчика. Первенство же в этом отношении, включая работу над письменными переводами дипломатических грамот и право выступать с официальными заявлениями от имени великого княза, прочно принадлежало Григорию Истомину по прозвищу Истома Малый, сыну видного московского подьячего.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Согласно сохранившимся документам, поездка Димитрия в Рим в 1525 году стала его первой и единственной самостоятельной зарубежной миссией. Он должен был сопровождать возвращающегося домой итальянского купца Паоло Чентурионе, члена влиятельной генуэзской финансовой семьи, который в частном порядке посетил Москву в поисках альтернативных торговых путей из Европы в Индию и Китай.14 Папа Климент VII воспользовался оказией и передал с ним личное письмо Василию III.15 Отвечать на частный визит церемонией посольства было бы унизительно для великого князя, поэтому неудивительно, что ответ был дан симметричный. Василий III отправил в Рим гонца — «своего человека с грамотой», и предложил папе продолжить дипломатический диалог.16 Димитрий, скромный правительственный толмач, явился, должно быть, идеальным кандидатом на роль ответного курьера, поскольку происхождение из купеческой среды уравнивало его с итальянским путешественником. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Только в связи с поездкой в Рим и только в документах, адресованных иностранным дворам, был Митя Толмач впервые назван притяжательным именем Герасимов.17 Новое прозвище вызвало явное замешательство среди казённых писарей, которые, вероятно, не смогли уразуметь, о ком идёт речь, и занесли его в дипломатические книги как Микиту Гарасимова.18 Сам Димитрий именем Герасимов никогда не подписывался, и по его возвращении из Рима в первоисточниках оно больше не встречается. Все эти обстоятельства позволяют предположить, что новое прозвище не было основано на родственных связях, а скорее просто представляло собой дипломатический псевдоним, изобретённый, чтобы избежать неловкости, связанной с отправкой к иностранному двору простолюдина с одночленным именем.19 |
17 [SIRIO 35], 692–698. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Представление Димитрием грамоты Василия III римскому папе состоялось 4 сентября 1525 года.20 В грамоте великий князь удостоверял, что её предъявитель является гонцом, и запрашивал для него безопасный проезд для немедленного возвращения в Москву. Если бы Димитрий был наделён правом делать заявления или вести переговоры от имени великого князя, то выданная ему в Москве грамота обязательно содержала бы верющее поручительство: «что учнет от нас говорити, и ты бы ему верил, то есть наши речи». Эта фраза в грамоте отсутствовала. Ранний аутентичный латинский перевод грамоты сохранился в Венеции.21 В нём имя курьера передано фонетически и семантически точно: Misimus ergo [nunc] ad vos… Dimitrium Erasimi. Здесь винительный падеж имени Димитрий сочетается с прозвищем, в котором переводчик справедливо увидел родительный падеж (то есть притяжательную форму) имени Герасим, произносимого, очевидно, на греческий манер с мягким [Г]. Включая текст грамоты в свою книгу, Павел Иовий среди прочих стилистических украшений заменил притяжательное прозвище гуманистическим: Demetrius Erasmius, тем самым облагородив московского посланника и проведя заодно прозрачно завуалированную параллель с его знаменитым современником Дезидерием Эразмом из Роттердама. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Римский вояж Димитрия стал классическим примером ошибочной идентификации. Еще не разбираясь в тонкостях московских дипломатических обычаев и пренебрегая отсутствием верющего поручительства, римская курия приняла московского гостя за великого посла, прибывшего с секретной миссией для переговоров о возвращении московской православной церкви в лоно Рима.22 В результате к Димитрию относились с величайшим уважением и достоинством, с чем он, вероятно, никогда прежде в своей жизни не сталкивался. Его принимали в роскошной части Апостольского дворца, а также выделили ему епископа в качестве личного сопровождающего. Хотя идеологические ожидания курии не оправдались, усилия по гостеприимству окупились с щедростью. По распоряжению папы Павел Иовий провел с Димитрием серию бесед, подвергнув его «любопытствующим и ласковым распросам».23 В ответ благодарный курьер, не имевший полномочий говорить от имени великого князя, стал весьма откровенен и предоставил своему собеседнику обширные сведения о географии, истории, экономике, обычаях, религии и военных установлениях Московского государства.24 Чтобы оценить размер удачи, выпавшей на долю Павла Иовия, здесь уместно вспомнить слова видного русского историка, который писал о московских дипломатических традициях того времени: «Обыкновенный наказ послам состоял в том, чтоб они как можно более узнали о состоянии и об отношениях государства, в которое посылались, и как можно менее сказали о своем государстве».25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прояснив личные обстоятельства Димитрия, перейдём теперь к той характеристике, которую дал ему Герберштейн, посвящая свой труд Фердинанду: interpres locupletissimus. Первое наблюдение заключается в том, что Герберштейн, казалось бы, удостаивет Димитрия похвалы, но при этом не упоминает его по имени. Это наводит на мысль, что между ним и Фердинандом существует заранее достигнутое взаимопонимание, позволяющее обойтись полунамёком: оба знают, о ком идет речь. Так могло бы быть, например, если бы они оба читали книгу Иовия. И здесь возникает второе наблюдение: в то время как Иовий, несомненно, воспринимал Димитрия как посла (legatus, по его собственным словам), Герберштейн раскрывает его истинную казённую должность: interpres, или переводчик. В то же время он модифицирует это фактически уничижительное существительное явно напыщенным прилагательным locupletissimus. Это превосходная форма слова locuples, которое буквально означает «богатый, состоятельный, обильный».26 Следует отметить, что среди множества нюансов употребления этого слова в словарях есть и переносное метафорическое значение «ответственный, заслуживающий доверия, надежный», подтвержденное классической цитатой из Цицерона (Pythagoras et Plato locupletissimi auctores).27 Однако в этом употреблении прилагательное явно относится к источнику исходного знания, а не к интерпретатору. Таким образом, при ближайшем рассмотрении простота выражения interpres locupletissimus оказывается обманчивой. Тому, кто внимательно читал книгу Павла Иовия, должно броситься в глаза несоответствие существительного interpres не только представлению Иовия о своем информаторе как о после, но и его фактической роли — рассказчика, но никак не переводчика. Но даже на поверхностный взгляд человека, с книгой Иовия не знакомого, сочетание прилагательного с существительным представляется оксюмороном. Это смысловое противоречие долгое время ставило переводчиков в тупик. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В итальянском издании трактата Герберштейна, вышедшем в 1550 году, это выражение было переведено буквально: ricchissimi interpreti. При этом переводчик употребил его во множественном числе, фактически отнеся к двум другим авторам, которых назвал Герберштейн: Иоанну Фабри и Антонию Биду (точнее, Виду).28 В немецком издании 1563 года был сделан упор на использовании Иовием опытного переводчика, ein erfarenen Tolmetschen.29 Однако, используя прилагательное в простой, а не превосходной форме, перевод фактически сместил акцент с отличительной черты конкретного человека на компетентную языковую помощь в целом. В аннотированном английском издании 1851 года, подготовленном обществом Хаклюта, переводчик и редактор Ричард Мейджор, потерпев поражение на поле семантики, предпочел изменить синтаксис: on account of the abundant use he made of the interpreter, то есть «поскольку он обильно использовал переводчика».30 Егор Замысловский, автор вышедшей в 1884 году монографии о Герберштейне и его трактате, по-видимому, понимал, что австрийский дипломат имел в виду Димитрия Толмача, но что для Иовия тот был послом, рассказчиком и информатором, а никоим образом не переводчиком. Замысловский передал невнятное выражение словами «толкователь весьма сведующий», осторожно сохранив латинский оригинал вместе с русским переводом, как бы сомневаясь и предлагая читателям судить самим.31 В русском переводе 1908 года, Александр Малеин употребил выражение «весьма сведущий толмач», но при этом перепутал Димитрия Толмача с другим персонажем трактата — боярином Димитрием Даниловичем, которого Герберштейн упомянул в совершенно другом контексте32 Современные издания Герберштейна на русском языке следуют формулировке Малеина.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чтобы оценить глубину замечания Герберштейна, нам нужно погрузиться в интеллектуальную атмосферу Европы середины XVI века. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сигизмунд Герберштейн написал свое посвящение эрцгерцогу Фердинанду в 1549 году. В то время прилагательное locupletissimus нередко фигурировало в описательных названиях книг. Оно модифицировало такие существительные как комментарий, указатель, тезаурус, означая «самый богатый, самый полный, самый подробный».34 Для нас особенный интерес представляет опубликованный в 1539 году в Страсбурге сборник комментариев к Гомеру. Эта книга содержала текст, атрибутируемый александрийскому филологу Дидиму Халкентеру (ок. 63 г. до н.э. – 10 г. н.э.), и была отредактирована Якобом Бедротом (ум. 1541). Называлась она: Ομηρου Εξηγητης: Homeri Interpres. Cum Indice Locupletissimo (см. илл.). В названии книги существительное interpres было использовано в метафорическом смысле для обозначения самого сборника комментариев: «Homerou exēgētēs: Толкователь к Гомеру с наиболее полным указателем». Сложно избавиться от впечатления, что Герберштейн перефразировал название классического трактата, соединив вместе два слова, первоначально принадлежавшие разным неодушевленным словосочетаниям, и применив их к описанию человека. Такая аллюзия уже сама по себе имела бы юмористический эффект. |
34 Например, интересующиеся географией современники Герберштейна наверняка были знакомы
с трактатом под названием C. Iulii Solini Polyhistor, Rerum Toto Orbe Memorabilium thesaurus locupletissimus. Baileae: Michael Isengrin, 1538,
(2-ое изд.: 1543), который включал в себя одну из первых печатных карт Московии.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сегодня, почти 500 лет спустя, мы можем судить о популярности и тираже «Толкователя к Гомеру», соответственно, по многочисленным упоминаниям об этой книге в литературе и по количеству сохранившихся экземпляров. Действительно, в настоящее время страсбургский Homerou exēgētēs 1539 года принадлежит фондам многих библиотек редких книг и регулярно появляется в аукционных каталогах.35 Можно смело предположить, что многие образованные люди середины XVI века были знакомы или, по крайней мере, знали о существовании этой книги. В частности, неудивительно, если и Сигизмунд Герберштейн, и эрцгерцог Фердинанд располагали таким знанием. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Важно отметить, что среди всех своих современников Сигизмунд Герберштейн имел уникальную возможность получить подлинное представление об отношениях между Павлом Иовием и его московским информатором. С одной стороны, он состоял в переписке с Иовием, читал его Libellus de Legatione и знал о ключевой роли Димитрия как источника сведений, положенных в основу книги. С другой стороны, в результате своих поездок в Москву он не только был непосредственно знаком с обычаями и традициями московской дипломатической службы, но и был лично знаком с Димитрием. Несоответствие между изложенным в книге блестящим послужным списком Димитрия в качестве посла во многих христианских провинциях и его реальным статусом на родине — скромного казённого толмача без фамилии или отчества — вряд ли могло ускользнуть от внимания Герберштейна. Как опытный дипломат, он несомненно был знаком с первой заповедью своей профессии: больше слушать, обращая внимание на детали; говорить меньше и по делу. Ему должно было быть совершенно ясно, что добровольно предоставив сведения Иовию, Димитрий существенно превысил свой курьерский мандат. При этом, однако, без сомнения владея искусством дипломатической деликатности, он не спешил оглашать свои знания во всеуслышание. Для него едва ли было секретом, что откровенность, проявленная Дмитрием в Риме, — если бы о ней узнали в Москве, — могла бы дорого обойтись толмачу. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Независимо от того, была ли аллюзия на титул Homērou exēgētēs намеренной или случайной, выбор Герберштейном слов
был без сомнения осознанным. В результате получилась неясная и частично противоречивая фраза, которая, как мы заметили,
явила собой проблему для переводчиков. Сейчас мы находимся всего в одном шаге от того, чтобы найти логичное и исчерпывающее
истолкование словам Герберштейна. Отмечая, что Павел Иовий имел в своем распоряжении interprete locupletissimo,
Герберштейн мог стремиться к тому, чтобы его читатели вместо этого услышали
interprete lo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таким образом, обращаясь к будущему императору Фердинанду I и одобряя исключительную достоверность книги Павла Иовия, Сигизмунд Герберштейн намекал, что её автору чрезвычайно повезло с многоболтливым собеседником, которого тот сумел элегантно и с толком использовать. Сегодняшние обитатели Сети с готовностью согласятся: остроумная литературная аллюзия и искусная игра слов действительно заслуживают смайлика! :) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prout locupletiorum cupiditati libuit :)Второй смайлик появляется в одном из заключительных разделов книги, посвященном не Московии, а Венгрии. Этот раздел не был включен в издание 1549 года, вошёл в краткой форме в издание 1551 года и появился в полном виде лишь в Базельском издании 1556 года и последующих латинских изданиях (см. Илл.). Герберштейн описывает коррупционный скандал, связанный с королевской казной, который потряс Венгрию в 1521–1523 годах.38 Давая техническое описание непродуманной денежной реформе, Герберштейн включил в скобках фразу (prout locupletiorum cupiditati libuit:), означающую: «как тó было угодно жадности богачей». Перед нами — ранний пример литературного приёма, который сегодня известен как pathetic fallacy, или патетический антропоморфизм. Термин, введенный Джоном Раскином (1819–1900), обозначает приписывание человеческих эмоций и характеристик неодушевленным объектам, природе и животным. Это форма персонификации, или олицетворения, присущая поэзии. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С точки зрения литературных традиций цифрового века, использование поэтического олицетворения в сухом экономическом наблюдении вполне заслуживает смайлика. В немецком издания 1557 года, где та же мысль выражена без персонификации: und wie den vermüglichern gefallen, смайлик отсутствует. В последующих переводах использованный Герберштейном риторический приём, по-видимому, в значительной степени утрачен. .39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключение и выводыНастоящая статья подтверждает репутацию Сигизмунда Герберштейна как исключительно прозорливого автора. В своём трактате Rerum Moscoviticarum Commentarii он не только сделал ряд проницательных и неустаревающих наблюдений, но и удивительным образом предугадал использование сочетания символов :) в качестве маркера, указывающего на риторический оборот, шутку или скрытый смысл. В статье были идентифицированы и рассмотрены два случая использования Герберштейном сочетания :) в прижизненных латинских изданиях трактата. В одном случае Герберштейн сопроводил сочетанием :) остроумное многогранное замечание, относящееся к двум знакомым ему лицам: итальянскому историку Павлу Иовию и его московскому информатору толмачу Димитрию. Лишь те из современников Герберштейна, кто был посвящен в детали их взаимоотношений, были в состоянии оценить глубину скрытого смысла. Им становилось понятно, что автор иронизировал над словоохотливым московским дипломатом и поздравлял Иовия с умелым вытягиванием из него нужных сведений для его книги. При этом для непосвященных замечание оставалось туманным и заставляло гадать, какое отношение богатство переводчика может иметь к качеству перевода. Во втором случае сочетание :) сопровождало комментарий, в котором риторическая персонификация человеческой жадности использовалась в сухом экономическом контексте, связанном с Венгрией. В статье даётся объяснение риторическим приёмам, которые были использованы Герберштейном в этих замечаниях, и на которые никто прежде, по-видимому, не обращал внимания. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На поверхностный взгляд может показаться, что обстоятельства поездки Димитрия в Рим полтысячелетия назад и содержание его бесед с Павлом Иовием — не более, чем призраки далекого прошлого, которые в наши дни не интересны никому, кроме горстки учёных экспертов. Редко какое заблуждение будет дальше от истины, чем такое мнение! Толмач Димитрий, незаметный казённый служащий, обходившийся при жизни без отчества и родового имени, до старости откликавшийся на уменьшительное имя Митя, но оставивший после себя ряд исторически значимых переводов (плюс несколько работ, атрибуция которых ему небесспорна), сумел сделать головокружительную посмертную карьеру. Опираясь исключительно на книгу Павла Иовия и на одобрительную оценку, якобы данную ему Сигизмундом Герберштейном, советская историография возвела его в ранг выдающегося посла, картографа, исследователя-землепроходца и первоткрывателя идеи плавания в Китай и Индию Ледовитым океаном вокруг северо-восточной оконечности Азии. В сегодняшней Российской Федерации год 1525-й рассматривается как отправная точка истории Северного морского пути (известного также как Северо-восточный проход), а на год 2025-й намечается празднование его пятисотлетия. Над сценой юбилейных торжеств мифологическим гигантом возвышается фигура Дмитрия Герасимова40 В этом контексте скрытая ирония Герберштейна в отношении московского курьера становится удивительно актуальной, а более пристальный взгляд на события 1525 года — настоятельно необходимым. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиография
|
| Наступны > |
|---|

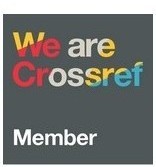



![Аугустин Хиршфогель (1503–1553). Прижизненный графический портрет Сигизмунда Герберштейна на фронтисписе,
подготовленном для издания 1547 года, которое, однако, осталось нереализованным. [Image source: Reiss & Sohn.]](/images/stories/Articles/24/herbi.jpg)
![Титульный лист и герб автора из первого издания трактата <em>Rerum Moscoviticarum Commentarii</em>, Вена, 1549. [Image source: Bavarian State Library. (Rar. 2082.)]](/images/stories/Articles/24/rerum-1549.jpg)
![<p style=text-align: justify;>Правда, о Московии писали весьма многие, но большинство делало это с чужих слов, а именно:
из более древних Николай Кузанский, а в наше время Павел Иовий (называю его с должным уважением к его высокой учености и
памятуя его невероятное ко мне расположение), писатель, разумеется, изящный и очень добросовестный (<em>ибо он пользовался
очень богатым переводчиком</em> :), Иоанн Фабри и Антоний Бид. </p>
<p style=font-size:small;text-align:justify;>
[За исключением набранного курсивом текста в скобках, перевод принадлежит А.И. Малеину [Herberstein 1908].
О переводе Малеиным интересующего нас фрагмента — см. далее в статье.]</p>](/images/stories/Articles/24/locupletissimo-abbr.png)
![Nicolas de Larmessin (c. 1638-1694). Гравированный портрет Павла Иовия, опубликованный в книге:
Isaac Bullart. <em>Académie des sciences et des arts, contenant les vies, & les éloges historiques des hommes illustres.</em> Tome 1. Amsterdam, 1682. [Image source: Author's collection.]](/images/stories/Articles/24/iovius.jpg)
![Nicolaes de Clerck (fl.1614-1625). Гравированный портрет папы римского Климента VII, опубликованный в книге:
<em>Wereld Spiegel, waer in vertoontword de Beschryvinge der Rijken Staten.</em> Amsterdam, 1621. [Image source: Author's collection.]](/images/stories/Articles/24/clemensvii.jpg)

![<p style=text-align: justify;>К таковым [нововведениям] относился произвол в обновлении серебряной монеты,
в силу которого прежние хорошие деньги переплавлялись и чеканились кое-как другие, худшие.
Эти в свою очередь были уничтожены, и стали делать другие, лучшие, которые, однако, не могли удержать
за собой надлежащей стоимости, а ценились то дороже, то дешевле (<em>как то было угодно жадности богачей</em> :)
и к тому же почти открыто подделывались иными частными лицами. </p>
<p style=font-size:small;text-align:justify;>
[Перевод следует тексту [Herberstein 2008], I:665,
за исключением набранного курсивом фрагмента в скобках, который принадлежит Ивану Анонимову [Herberstein 1866],218.]</p>](/images/stories/Articles/24/cupiditati-emph.png)
